ПСИХОЛОГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ДИСКУРСА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Aннотация
Анализируются основы взаимосвязи психологии и нравственности в контексте межпредметного дискурса гуманитарных наук. Психология и нравственность на фоне антропоцентрических идей в современной философии и антропологии являются трудно различимыми, дополняющими и переходящими друг в друга. Со стороны нравственности имеет место быть выбор между социальными нормами, ценностями и культурными универсалиями той общности, которой принадлежит человек, а со стороны психологии – культурно-исторические условия, процесс, "механизмы" и психотехнический инструментарий анализа, выбора и осуществления намерений.
«Самоотверженная аскеза – живой нерв всякого созидания, в том числе национально-культурного и социально-экономического развития».
Ю.М. Бородай
«Потеря пробуждает сознание…»
М.К. Мамардашвили
В психологии при обсуждении важных проблем, нередко подсыпая как бы "щепотку перца" в пресный научный спор или желая придать нетривиальный колорит дискуссии, прибегают к употреблению коротких суждений известных авторов, содержание которых вмещает в себя если и не целую научную парадигму, то захватывает ее главный лейтмотив. Назовем две такие максимы, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемому нами предмету. Первая из них родилась в споре о проблемах человека между выдающимся советским академиком-психологом А.Н. Леонтьевым и философом М.К. Мамардашвили. На вопрос психолога, явно не лишенного некоторой доли иронии: «Так с чего же начинается человек!?», философ совершенно неожиданно и уверенно ответил: «С плача по усопшему…». Вторая, авторство которой трудно достоверно установить, гласит: «Человек начинается с табу…». Но дело, конечно же, не в авторстве, а в том, что обе максимы указывают на возможность попадания нашего сознания в такие точки, не обнаруживаемые эмпирически, в которых мысль объективируется и направляется на поиск differencespecific человеческого в человеке.
Легкая ирония А.Н. Леонтьева в адрес слов тогда еще молодого, но уже весьма перспективного философа Мераба Мамардашвили вполне понятна. В те, теперь уже далекие, 60-70-е годы прошлого столетия точка отсчета человека и его истории была установлена фактически директивно, в соответствии с доминирующими идеологическими установками – началом антропогенеза была объявлена способность высших приматов к трудовой деятельности. И потребовалось почти титаническое усилие и в высшей степени гражданское мужество историка и палеопсихолога Б.Ф. Поршнева, чтобы найти научно обоснованные аргументы и выразить сомнение в адекватности понимания "горе-интерпретаторами" цитаты из философского наследия К. Маркса в контексте психолого-антропологических проблем [8]. По убеждению Б.Ф. Поршнева, если адекватно понимать мысли К. Маркса, осуществление трудовой деятельности как целесообразной, опосредованной орудиями активности предполагает наличие в мире существа, обладающего сознанием. Сознание – архисложное новообразование психики человека (и, соответственно, филогенетически более позднее, чем представлялось многим исследователям), немыслимое без языка, без включения его в микрокосм культурных, общественно-исторических отношений и практической деятельности. Трудовые операции, таким образом, мог выполнять только высокоразвитый в психическом и социальном смысле – уже человеческий – индивид. Следовательно, точка появления и генезиса человека сдвигается в густую тьму древней истории – туда, где вызревали предпосылки и условия возникновения сознания и, соответственно, способность к труду.
Так что же, если не труд, является началом человека и человеческой истории?.. Есть ли в современной науке – философии, антропологии, палеопсихологии, биологии, физиологии – продуктивные идеи, способные приоткрыть завесу таинственности и обнажить перспективы научного поиска?
Мы твердо уверены, что первичной в понимании феномена человека, научно обоснованной и эвристичной является идея, выраженная во второй, обозначенной выше, максиме: «Человек начинается с табу…». Эта концентрированная мысль, по нашему убеждению, включает в себя следующее содержание. Человек стал возможен как явление (это относится и к нам, современным людям, живущим сегодня) тогда, когда в непрерывном "жизненном потоке" существования наших ближайших животных предков по каким-то причинам некоторые витальные акты стали "запрещаться", а другие, одновременно с первыми, "разрешаться". Речь идет, если можно так выразиться, об исходной, первичной, "фундаментальной аскезе" – об ограничении (а в более позднем фило- и онтогенезе – самоограничении), принявшем в человеческом сообществе форму необходимости. Мы не будем подробно воспроизводить антропологическую аргументацию, надеясь, что читатель в состоянии самостоятельно разобраться в деталях тонкого научного анализа, представленного в фундаментальных работах по антропогенезу, палеопсихологии и древнейшей истории таких выдающихся исследователей, размышлявших над проблемами в этой сфере, как П. Адо, Ю.М. Бородай, Л.Н. Гумилев, К. Леви-Стросс, К. Лоренс, Б.Ф. Поршнев, Ю.И. Семенов, Э.Б. Тэйлор, П. де Шарден, М. Фуко и др. Согласимся с мнениями компетентных исследователей в том, что в своей животной предыстории наши древние предки, – еще находясь в лоне природы, в ареале биологического вида – оказались в прямом смысле в ситуации между жизнью и смертью. То есть, биологический вид антропоидов, выживая, попал в ситуацию "взрыва" – «прерыва внешней детерминации» [1]. Эта ситуация характеризуется тем, что осуществляться должны были только те формы активности, инициируемые биологическими (естественными) детерминантами, которые вели "к жизни", и не должны были осуществляться те, которые вели к разрушению, "к смерти". Чрезвычайно эвристичный, на наш взгляд, подход обосновывает С.С. Хоружий в антроподицее продуктивно разрабатываемой им синергийной православной христианской антропологии. По его убеждению, "преодоление смерти" является "первоимпульсом" Человека и выступает как базовое интенциональное отношение сознания: «То, что заведомо входит в искомое, требуемое Первоимпульсом, есть не столько отсутствие смерти, сколько изменение природы смерти, преодоление конца-уничтожения, аннигиляции личности; и это изменение общим образом представляется как некоторый конец-превращение, конец-трансформация» (курсив автора. – В.К.) [10]. Таким образом, биологическая детерминация в силу объективных обстоятельств (современная наука пока может их только гипостазировать: наиболее интересные, обоснованные, продуктивные гипотезы о "начале" антропогенеза, с нашей точки зрения, изложены в работах Ю.М. Бородая, Л.Н. Гумилева, Б.Ф. Поршнева, Ю.И. Семенова.) в отношении к животным предкам человека "лишилась" своей универсальности и не могла выполнять в полной мере свои "жизнетворящие" функции. Появилось "странное" существо, живущее, по сути, двойной жизнью: живущее и по "природе" и, одновременно, "вопреки" ее требованиям. С необходимостью возникают неспецифические, особые, "новообразования" – атрибуты жизнедеятельности, оттормаживающие в общем потоке активности "запрещенное" и активирующие "разрешенное" поведение. (О необходимости можно говорить постольку, поскольку вид выжил, точнее, все еще живет и при выполнении некоторых условий и усилий (а они, забегая вперед, скажем, и есть, с нашей точки зрения, сфера нравственности) будет жить вечно.) Такие новообразования – не естественные по своей природе и генезису, т.е., они – не природные, они – искусственные – "сотворенные", созданные из "материала" самой же природы.
Представляемый таким образом "взрыв" на полюсе человека (подчеркнем, теперь – уже человека, а не животного) "раскалывает" действительность, появляется "мир Человека". (Ср. у того же К. Маркса: если животное никак не относится к окружающей его действительности, слито с ней, то человек противопоставляет себя миру природы, вступает с ним в отношения...) Человеческий мир – не гомогенная природная среда, как у животного. Он многообразен: в нем есть явления и предметы спонтанные по происхождению, не зависящие от его ума и воли, и есть явления и предметы интенциональные – случившиеся по его разумению, образующие гармонию, упорядоченность. (Уже первые античные философы, пытаясь понять мир, в котором живет человек, говорили о хаосе и космосе [6]. Человек, "удваиваясь", с одной стороны, не перестает быть биологическим существом (и по-другому быть не может, если цивилизация не превратит его в киборга), с другой, он – культурное, социальное, историческое существо. Граница между человеком как природным существом и человеком как культурно-историческим индивидом проходит "внутри" самого человека [5]. Обратим внимание, рождается он в первый раз биологическим индивидом, но ему еще предстоит – как факт второго рождения – усилие рождения в себе Человека. (Вспомним сократовско-платоновское: «Познай в себе человека!»)
В этом месте наших рассуждений становятся востребованными идеи, обобщенные в упоминавшейся выше максиме, высказанной М.К. Мамардашвили. «Человек, на мой взгляд, – пишет философ, – это существо, которое есть в той мере, в какой оно самосозидается какими-то средствами, не данными в самой природе» [7]. Культурное (синонимы: человеческое, духовное и, следовательно, нравственное) в человеке не возникает спонтанно. Культурное – это состояния, в которые человек попадает и при необходимом усилии удерживается благодаря "машинам" культуры, специально сконструированным средствам самосозидания человека: плач по усопшему – ритуал оплакивания умершего, магия, традиция, миф, символ, искусство, наука, лирика, анекдот, воинская команда, нравственные нормы, "кодекс чести" и т.д.). «Человек есть, – настаивает М.К. Мамардашвили, – искусственное существо, рождаемое не природой, а само-рождаемое через культурно изобретенные устройства» [7].
Отсюда следует, что поведение человека как культурного (не биологического!) существа, включает в себя в качестве основания (и, отметим, в качестве психологической и нравственной составляющей), во-первых, выбор между "запрещенным" и "разрешенным", а на более высоком уровне исторического и онтогенетического развития – выбор между "желаемым" и "должным". Во-вторых, такой выбор осуществляется не стихийно, а посредством культурных "инструментов". По убеждению философа, «...способы внесения порядка в мир и в биологические состояния суть одновременно способ конструирования и воспроизводства человеческого существа как такового, в его специфике» [7].
Такое понимание "начала" Человека и его истории в современном гуманитарном знании – философской антропологии, антропологии, древней истории, культурологии, языкознании и т.д., вплоть до семиотики, – если и не постулируется, то, по крайней мере, принимается как приоритетное и не вызывает серьезной критики.
Исходя из философско-антропологических предпосылок, нам представляется весьма актуальным ответ на вопрос: насколько близко современнаяпсихология, являясь, по определению Л.С. Выготского, «последней наукой о человеке» [3], подошла к такому пониманию его культурной и, соответственно, нравственной природы, и, в связи с этим, какие перспективы открываются перед научно обоснованной психологической практикой, адресованной человеку?
Заданный вопрос требует ответа, тем более, что, начиная с середины XIX века, научной психологии выставлен, с позволения сказать, "гамбургский счет": «…истинная Психология, – с точки зрения Д.С. Милля, – есть необходимая научная основа Морали, Политики, Науки и искусства Воспитания» (Цит. по: [9]). С.17 Или, по мнению, известного теоретика психологии О. Кюльпе, «...если в наше время хотели бы указать научную область, объединяющую вокруг себя всевозможное проявление человеческого гения, то пришлось бы назвать психологию. Она вскрывает в жизни духа основы науки, искусства, морали и религии, а также воспитания и образования. Ей одной удается найти отклик в душе каждого человека. Психолог может сказать каждому: tuaresagitur ([лат.] – дело касается тебя) » (Цит. по: [9]). - С.27.)
Надо отдать должное, в научных традициях русской психологической мысли обращение к нравственным проблемам было фактически обязательным. Методолог и историк психологии М.Г. Ярошевский, анализируя естественнонаучный подход И.М. Сеченова к пониманию и объяснению поведения человека – оказавший огромное влияние на становление и развитие психологии как науки – констатирует, что система психологических идей великого русского физиолога имела сугубо нравственный контекст. Рассуждая о труде И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1866), М.Г. Ярошевский подчеркивает, что «весь пафос сеченовской книги являлся нравственно-философским. Речь шла о том, как средствами науки формировать таких людей, которые "не могут не делать добро". Сеченов писал, что это будут люди – рыцари, "которые в своих действиях руководятся только высокими нравственными мотивами, правдой, любовью к человеку, снисходительностью к его слабостям и остаются верными своим убеждениям, наперекор требованиям всех естественных инстинктов"». И далее автор цитирует классика: «Только при развитом мною воззрении на действия человека в последнем возможна величайшая из добродетелей человеческих – всепрощающая любовь, т.е. полное снисхождение к своему ближнему» [11, с. 23-24].
У М.Г. Ярошевского мы находим высокую оценку и другому великому русскому мыслителю – естествоиспытателю князю А.А. Ухтомскому. Учение А.А. Ухтомского о доминанте, по мнению историка психологии, являясь одним из краеугольных "камней", заложенных в фундамент современной психологии, «…стало возможно потому, что он понимал человека <…> как телесно-духовное существо. После окончания духовной академии он, считая убеждение в дуализме души и тела устаревшим, стал изучать физиологию, открыв доминанту, как особый телесный механизм. Ее работе у человека он придал нравственную направленность в виде учения о "доминанте на лицо другого", только благодаря которой человек, "изнутри постигая в общении уникальность другого, сам обретает свою человеческую сущность"» [11, с. 24].
В трудах классиков отечественной психологии Л.И. Божович, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. эти идеи продолжены и представлены не менее убедительные аргументы, указывающие на сопряженность проблем антропологии, проблем психологии и проблем нравственности.
Однако, воистину, как говорится: «O tempora! Omores!» ([лат.] – О времена! О нравы!). Согласимся с мнением Б.С. Братуся, утверждающего, что в современной российской психологии, «хотя связь этики как учения о нравственных началах и психологии на словах охотно признается почти всеми, конкретные, реальные формы этой связи оказываются весьма малопредставимыми» [2, с. 17].
Бесспорно, психология в силу особенностей своей предметной сферы не может претендовать и не претендует на объяснение феномена морали. Важно другое. Науку о душе не может не интересовать мера ее участности в решении нравственных проблем человека – проблем сознания и поведения, по определению. (Мораль, нравственность, как известно, определяется как один из основных способов нормативной регуляции действий (поведения) человека в обществе.) Она не может оставаться индифферентной к психологическим аспектам нравственности. Без сомнения, современное состояние их разработанности в психологии нужно признать недостаточным. Сегодня однозначно можно констатировать: отечественная психология сдала "без боя" свое богатейшее наследие и по молчаливому согласию отдала приоритет "на своей половине поля" в изучении этих проблем зарубежным авторам и теориям (и, соответственно, практикам), разработанным не только в иной языковой среде и культуре, но и в – еще совсем недавно весьма эмоционально критикуемых – методологических системах "буржуазной" психологии. Роковую роль здесь, видимо, сыграло и продолжает по инерции играть "идеологическое" наследие 30-70-х годов нашей страны.
В тоже время, мы уверены, что конкретно-научное направление в изучении психологических аспектов нравственности было заложено в те же далекие 20-30-е годы прошлого столетия в "неклассической" психологии, которую продуктивно разрабатывал в контексте культурно-исторической теории Л.С. Выготский. Для примера обратимся к некоторым моментам его творчества.
Л.С. Выготский, как известно, пришел в психологию из сферы филологии: литературной и театральной критики. Можно предположить даже большее: в психологию его привело неудержимое желание разгадать "загадку Гамлета" – горячо любимого им с юношеских лет героя одноименной трагедии У. Шекспира [4].
Поясним, что своеобразной эстетической "мишенью" для критиков в трагедии гениального драматурга и поэта конца ХVI – начала ХVII в.в. У. Шекспира оказался характер Гамлета (именно в психологическом смысле слова): драматурга обвиняли в том, что его герой получился "бесхарактерным" – т.е., "невыразительным" – вялым, нерешительным, бездействующим и, соответственно, неинтересным для зрителей, и этот "существенный" авторский "просчет" по общей оценке критиков, с которыми категорически не согласился Л.С. Выготский, значительно снизил художественную ценность трагедии в целом.
Шекспировский Гамлет в варианте же Л.С. Выготского впервые в истории мировой театральной критики интерпретируется как герой, который своим бездействием, странностью, "бесхарактерностью" являет другой, "нездешний", "потусторонний" мир – мир не конечных, эмпирических, буквально воспринимаемых сцеплений повседневной жизни, а мир универсальных (интуитивно угадываемых) сущностей, образующих "территорию" общих законов мироздания. Один мир – "слова, слова, слова…" (ср. библейское – "суета сует"), другой – "молчание".
Гамлет для Л.С. Выготского – герой-философ, который являет своей персоной полноту человеческой жизни: одновременно он – человек, влекомый эмпирически обусловленной необходимостью – мщением за поруганную семейную честь и, в тоже время, он – человек, не делающий этого. Гамлет – герой, преодолевающий страсть, поставивший себя выше обыденной суеты: месть не застила ему глаза и поэтому он – "бесхарактерный" (в привычной оценке критиков). "Там" он – "обычный" человек (мы бы сказали, соответствующий "усредненной норме"), "здесь" он – человек "не такой, как все", с "помешанным рассудком" (так его склонны воспринимать окружающие), человек "с избытком", выбивающийся из "общего строя". Трагедия Гамлета в том, по мнению Л.С. Выготского, как он ценой собственной жизни решает предельный по напряженности и сложности – "человеческий" – вопрос: «To be, or not to be?...», – «Быть или не быть?...», – «Родиться Человеком или не родиться?...»
Но что здесь для нас главное? А главное то, что Л.С. Выготский, очарованный "философией" Гамлета У. Шекспира, пытается сформулировать для себя трудно артикулируемые в психологических дефинициях философско-антропологические вопросы: кто есть Человек и какова его сущность, каково его место в мире, каким образом он осуществляет предначертанное ему высшее назначение? Он пытается найти основу для понимания человека "в полном объеме", т.е. Человека, который решает жизненные, а значит – нравственные, проблемы. Это составит, как мы полагаем, первооснову его будущего прорыва в психологии.
Чрезвычайно важные размышления о Гамлете У. Шекспира, помогающие нам более содержательно понять позицию Л.С. Выготского, находим у М.К. Мамардашвили: «…Обратите внимание, что делает Гамлет. <…> Он якобы колеблется; вместо того, чтобы действовать – рассуждает. Бледная нерешительность. <…> В действительности это вполне грамотная метафизическая трагедия. <…> Он желает поступить как человек. Он себя собирает. Во имя чего? Чтобы преодолеть сцепление причин и следствий. А каково сцепление причин и следствий? У тебя убили отца, убей кого-нибудь из семьи убийцы. Потом будет убивать кто-то из этой семьи и т.д. Вот эта цепь, которая и есть человеческая история, сцепление натуральных вещей. Кровь за кровь – и сцепилось: и пошло, и пошло. <…> А Гамлет хочет поступать свободно и, если убивать, то по смыслу, чтобы убийство вытекало из собранного Гамлета. Собравшего свое бытие. И он как бы "подвешивает" себя – на чем? Он приостановил натуральную цепь: нет, так не пойдет. Ибо не известно, во что это выльется и что породит. И что он делает, чтобы помочь себе собраться? Среди прочего – и я к этому вел – спектакль ставит – внутри спектакля. То есть искусством занимается. Театр для театра. Театр ему нужен, чтобы выявить смысл, который так вот просто, тыкая пальцем, выявить нельзя.Нужно построить машину переживания, и тогда она катарсисно (как разъясняет трагедия) выявит завершенный смысл». (Курсив наш.– В.К.) [7].
О чем идет речь? (Подчеркнем, мысли Л.С. Выготского и мысли М.К. Мамардашвили являются в этой точке конгениальными.) В чем заключается единство мысли двух выдающихся ученых ХХ века? Попробуем проинтерпретировать. Во-первых. Речь идет о выборе, который не может не быть нравственным. Суть дилеммы «To be or not to be?»: быть человеком, поступки которого обусловлены конкретной ситуацией и аффективным отношением к ней, или быть Человеком безотносительно к данной, единичной ситуации – «человеком вообще», «человеком в полной мере», «человеком с избытком». Во-вторых. Каким образом можно осуществить этот роковой выбор, если из самой ситуации возможные варианты не "просвечивают" сквозь толщу "мути эмпирического болота" (метафора, которую употреблял в своих текстах Л.С. Выготский) повседневной рутины жизни? – Выход один: нужно остановиться, прервать данную эмпирическую ("дурную", как сказал в свое время Ф. Гегель) бесконечность совершающегося, создать лакуну в длящемся опыте и изыскать возможность иного отношения к миру, и, соответственно, другого поведения. (В этом и заключается чрезмерная нерешительность и поэтому – "непонятность" для критиков и понятность для Л.С. Выготского и М.К. Мамардашвили – поведения Гамлета.) В-третьих. Чтобы разобраться в ситуации, нужно посмотреть со стороны, глазами другого человека – рефлексивно, – разыграв спектакль, и пережить его вместе с героями-актерами. И, построенная таким образом, "машина" переживания "катарсисно" выводит к пониманию случившегося, определяет и направляет выбор стратегии поведения, обусловленного уже не самой ситуацией (страсть "отмщения"), а ориентиром, проявившемся в свете "чего-то большего". Чего? – В свете смысла человеческой жизни как уникального (сверхъ-естественного, а значит – "божественного") дара, а не той "жизни", которая обусловлена природной (натуральной, потребностной) необходимостью.
На наш взгляд, мы уже, незаметно для себя, в контексте движения философско-психологического анализа вступили на территорию, где психология и нравственность становятся трудно различимыми, дополняющими и переходящими друг в друга. Со стороны нравственности имеет место быть выбор между социальными нормами, ценностями той общности, которой принадлежит человек, и культурными универсалиями, а со стороны психологии – культурно-исторические условия, процесс, "механизмы" и психотехнический инструментарий анализа, выбора и осуществления намерения. Не имея возможности останавливаться подробно, попутно заметим, что мысли Л.С. Выготского и М.К. Мамардашвили не только конгениальны, но очень близки к теоретическим стратегиям осмысления нравственно-психологической природы "духовных практик" в исследованиях П. Адо, "заботы о себе" М. Фуко, их интерпретации в синергийной православной антропологии, разрабатываемой С.С. Хоружим. Такие совпадения, по нашему убеждению, отнюдь, не случайны. Они красноречиво и настойчиво указывают на их инвариантность, на имеющую место быть межкультурную европейскую традицию и "поли-мировоззренческую" направленность. Итог, к которому привели нас размышления, является свидетельством того, что там, где психологический анализ затрагивает "вершинные" уровни человека, он не может не быть нравственным. Таким образом, актуализируется предметная сфера, которую можно квалифицировать как психологию нравственного выбора или, короче, – как психологию нравственности.
Невольно напрашивается вопрос: а как же быть с более "простыми" психическими процессами – вниманием, восприятием, памятью и т.д.? «Вот уж их изучение точно находится вне поля нравственности…», – возразит потенциальный оппонент. Увы, вынуждены его разочаровать. Л.С. Выготский теоретически обосновал и экспериментально доказал в своих исследованиях, что любой психический процесс, опосредованный культурными средствами, в конечном итоге направлен на овладение человеком ситуацией и своим поведением и, таким образом, ведет человека к свободе. Можно подытожить: таким образом, в логике исследований Л.С. Выготского, любая форма активности человека (не имеет значения: "высшая" или "элементарная"!) имманентно, даже, если мы об этом не задумываемся, всегда включает в себя нравственный, по сути, выбор: быть человеком или не быть? – осуществлять ли формы своей активности (от "низшей" до "высшей") культурно, используя человеческий потенциал, или, в противном случае, наше поведение протекает стихийно, хаотически (от слова "хаос"), не преднамеренно, т.е. "бездумно". Известны слова Л.Н. Толстого о том, что люди делают только вид, что воюют, торгуют, строят, главное же, что они делают всю жизнь, – это решают нравственные проблемы.
В заключении вернемся к эпиграфам. Мы выражаем солидарность с мыслью замечательного отечественного философа и антрополога Ю.М. Бородая, заключающейся в том, что и в жизни, и в поведении человека, и в науках, их изучающих, отсчет Человека начинается с "самоотверженной аскезы" (аске́за (askesis [греч.] – упражнение, практика), совокупность форм и методов самоограничения и самоконтроля.), лежащей в основе выбора – нравственного по своей природе, – "живого нерва всякого созидания". Согласимся и с мнением М.К. Мамардашвили в том, что только ограничения, нередко сопряженные с возможностью потери чего-то дорогого и близкого, пробуждают сознание человека: понимание себя как Человека и своего места в мире.
К осмыслению феномена самоограничения и самоконтроля как начала нравственности в повседневной жизни и в науках, изучающих Человека (и, прежде всего, это касается психологии), нас обязывают и многовековые традиции отечественной культуры, в которой усилиями многих поколений наших самоотверженных соотечественников были разработаны основы православных духовных аскетических практик. Среди подвижников, являющих нам и сегодня, в начале XXI в., не только нравственные образцы самосозидания, но и высочайшие нравственные эталоны отношения к Отчизне, к людям, эталоны служения делу, к которому склонны, мы обнаруживаем самых разных россиян из разных исторических эпох. Мы имеем в виду, прежде всего, представителей исихазма на Руси и в России. Исихазм (ησυχία [греч.] – покой, безмолвие) – древняя традиция духовных практик, составляющая антропологическую основу православного христианского аскетизма, зародившегося в Византии и продолжившегося на Руси, а за тем и в России. Здесь и духовные лица, и ученые, и представители других сфер деятельности: св. Андрей Рублев, Феофан Грек, св. Сергий Радонежский, св. Серафим Саровский, о. Павел Флоренский, о. Иоанн Мейендорф, Алексей Федорович Лосев (монах Андроник) и мн. др. Всех их объединяет одно – духовная христианская православная аскетическая традиция, органическое приятие и безукоризненное следование нравственному императиву.
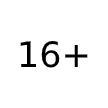

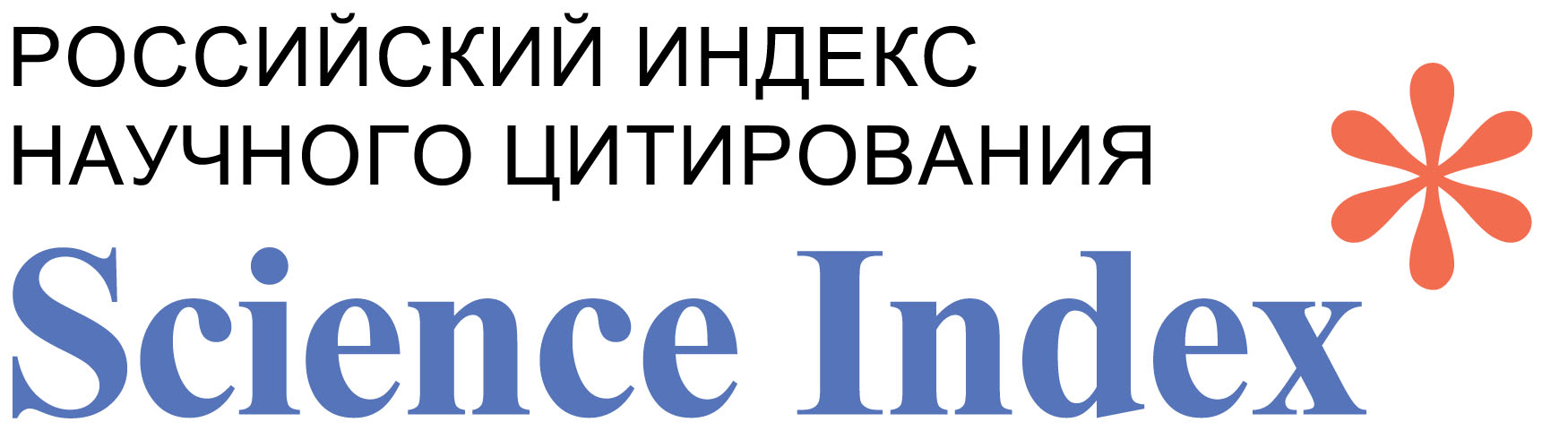




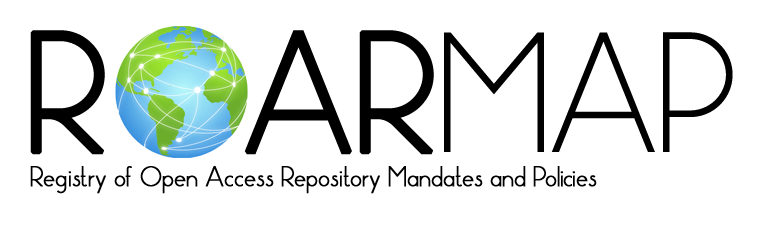

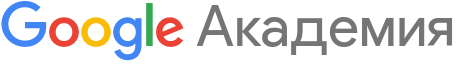


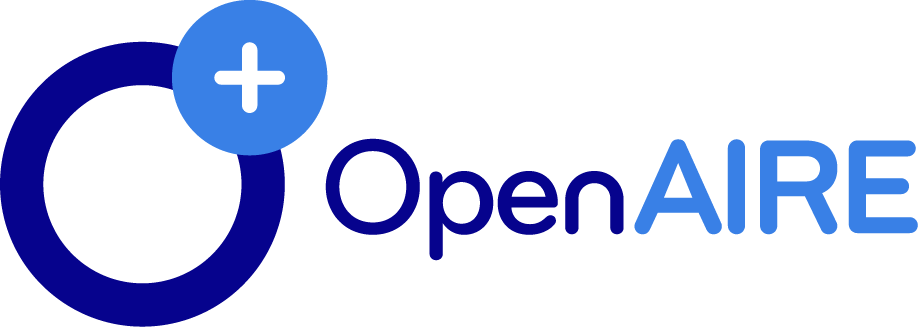




Список литературы