МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (ПОИСК ПАРАДИГМЫ)
Aннотация
N.B. Автор исходит из представления о том, что знания не являются калькой («отражением») реальности, а конструируются субъектом на основе опыта взаимодействия с миром и зависят от мотивации субъекта познания, языка описания, операциональных средств и т.п., что определяется в конечном итоге культурой общества и личностными особенностями субъекта познания, его «картиной мира».
Ключевые слова: Знаниe, конструктивизм, «жизненный мир», «множественность истины», «картина мира», личностные конструкты
Какое отношение имеет психология к проблеме глобальной эволюции, или, как ее еще называют, big history (Э. Янч, Д. Кристиан, И.С. Шкловский, Н. Моисеев, А.П. Назаретян)? Историческая психология как эволюция человеческой ментальности входит в big history как позднейший эволюционный этап, когда человеческое сознание как форма рефлексирующего самое себя бытие оказывается фактором, способным целенаправленно задавать вектор глобальной эволюции. В отличие от истории психологии как смены школ и парадигм в ходе становления психологии как науки, историческая психология призвана реконструировать дух прошедших эпох, ментальность выдающихся исторических деятелей, а также и картину мира, обыденное сознание народов, подчас уже сошедших с исторической сцены.
Действительно, чтобы функционировали политические и экономические институты, необходимы определенные фигуры сознания людей, реализующих экономическое и политическое поведение. Для того, чтобы существовало социалистическое общество советского типа (эпохи развитого социализма), необходима особая форма «двоемыслия» (Дж. Оруэлл) или «кентаврического сознания» (М. Мамардашвили), где нормы поведения граждан определяются не декларируемыми и конституционно закрепленными в конституции правами, а некими негласными правилами, нарушение или даже попытка обсуждения которых каралась инквизицией двадцатого века − спецслужбами НКВД, КГБ. Специфика сложной семиотической игры декларируемого и реально действующего породила специфический тип еретика-правозащитника, ориентированного в своей правозащитной деятельности именно на соблюдение конституционных прав граждан.
Помимо социальных представлений (в терминах С. Московичи, 1998), в механизм социального взаимодействия входят и эмоциональные состояния. Например, чувство религиозного воодушевления во времена крестовых походов; эсхатологические ожидания близкого конца света в Византии накануне первого тысячелетия; или доминирующее чувство страха во времена разгула инквизиции в средневековье или в современном тоталитарном обществе.
Современная Западная Европа и северная Америка, коммунистический Китай и черная Африка, арабский восток и Индия отличаются не только и не столько промышленными технологиями и обликами городов, которые в условиях глобализации имеют тенденцию к стандартизации, сколько системой ценностей и картиной мира людей, их населяющих. Новейшая история демонстрирует, что в дискуссии А. Фукуямы (2003), предрекавшем конец истории как снятии противоречий при всемирном движении к либеральному обществу, и С. Хантингтона (2003), полагавшем в ближайшем будущем противостояние нескольких крупных цивилизаций, объединенных религиозно-идеологическим единством, прав скорее Хантингтон, и антагонизм разных «правд» сохранится. Только возможно, в эпоху Интернета противостояние и конкуренция различных ценностей и стилей жизни необязательно должна реализовываться в привычных рамках государственных образований, а возможны и между виртуальными сообществами людей, объединенных сходством менталитета.
Понимание предмета исторической психологии как истории и эволюции ментальности заложено, на мой взгляд, трудами О. Шпенглера, исторической школой анналов (Гофф, М. Блок), работами отечественного историка А.Я. Гуревича (1972), психологов А.П. Назаретяна (2001), В.А. Шкуратова (1994). Наряду с реконструкцией исторической ментальности, предметом рассмотрения исторической психологии могут быть и потенциально возможные траектории исторического бытия, и картины мира, где ставшее и актуально существующее бытие есть только одна из воплотившихся реализаций потенциально возможного, только одно из возможных состояний, к которому могла бы прийти эволюционирующая система. Применительно к истории, возможность сослагательного наклонения − «что было бы, если бы реализовалась альтернативная версия значимого исторического события», как в этом случае развивались бы обстоятельства и формировался общественный менталитет и культура, использовал Дж. Тойнби [16]. Примером его анализа были гипотетические зарисовки такого типа, каким мог бы быть архитектурный образ европейских городов, если бы в битве с арабами при Пуатье победило не объединенное рыцарство христианского мира, а мавры. Применительно к нашей новейшей истории это могли быть такие построения: куда пошло бы развитие СССР и России, если бы в августе 1991 года победили лидеры ГКЧП, или, более узко и конкретно, куда могла бы привести цепочка этих событий, если бы в начале путча первый президент российской федерации Б. Н. Ельцин был бы арестован.
В более узком плане историческая психология направлена на реконструкцию духа отечественной истории, на анализ стилей жизни, системы ценностей, нравов, жизненных сценариев и идеалов различных социальных слоев в различные исторические периоды. Так, например, картина мира и система ценностей наших соотечественников двадцатых − тридцатых годов прошлого века, в силу понятных причин, связанных с тоталитарным прошлым, выдававших желаемое за действительное и искоренявших субъективизм в исторической науке, изучены, наверное, в меньшей степени, чем менталитет эпохи Пушкина и декабристов.
Так возможно ли объективное изучение прошлого, и существует ли исторический факт как непреложная данность? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, рассмотрим представления так называемой «ленинской теории отражения», на которой было воспитано старшее поколение психологов, конструктивистского и интуитивистского подходов в гуманитарных науках и психологии. Многие психологи могут мне возразить, что они давно отошли от метафоры отражения, и это пройденный этап в методологии психологии. Но найдутся и явные сторонники. И тем, и другим я могу продемонстрировать множество психологических текстов, где пишется о соответствии их теоретических построений некоей «объективной действительности», «психологической реальности», «социальной действительности». При этом сама эта действительность подразумевается, как некая онтологическая данность, существующая сама по себе безотносительно позиции исследователя, и ставится вопрос, насколько тот или иной образ, та или иная характеристика или оценка соответствует действительности. Один из наиболее ярких отечественных методологов естественно-научной парадигмы В.М. Аллахвердов выразил подобную позицию следующим образом: «ученый стремиться узнать то, что есть на самом деле, но всегда вносит в это знание нечто такое, чего на самом деле нет. Ученый является лишь искателем истины, а не ее носителем» [1]. Эти представления характеризуют позицию многих не только отечественных, но и зарубежных ученых. Теория отражения (или версия «копирующей теории истины) имплицитно содержится в мировосприятии большинства психологов и философов. Особенно это парадоксально звучит в тематике общения, межличностного восприятия, сознания и самосознания, где, казалось бы, уже сама проблематика подразумевает пристрастного наблюдателя, включенного в изучаемый процесс.
Интересно, что ортодоксальные марксисты не замечали противоречия между положением о возможности бесконечного приближения к истине в познании «объективной реальности» и утверждаемого ими же положения о классовой природе познания. При этом последнее положение, по сути, ближе культурологическому релятивизму О. Шпенглера (1998), рассуждавшего о специфике греческого, арабского или новоевропейского (Фаустовского) мироощущения и возможности в рамках этих различных картин мира различных форм логики и математики.
В истории советской гуманитарной науки наиболее глубокие отечественные философы и психологи (под мощным давлением тоталитарной идеологии, вынужденные прикрываться идеологическими клише типа «диалектического материализма») выходили за жесткие рамки «теории отражения» или в ее психологической производной − «теории уподобления», фиксируя включенность позиции субъекта как в его картину мира, так и в его бытие [15].
Взамен бессубъектного понятия «действительность», под влиянием, как полагаю, М. Хайдеггера (об этом свидетельствует, в частности, использование Хайдеггеровского понятия онтического), С.Л. Рубинштейн в своем труде «Бытие и сознание», и особенно в книге «Человек и мир», вводит в психологическую теорию понятие «бытие», «бытие как таковое, − пишет он, − как сущее − это исходное, первично данное, необходимо предполагает мое познание, т.е. Человека, существование сущего и познаваемого» [Там же, с. 9].
Наука о бытии невозможна без человека. Специфическим способом существования человека, по Рубинштейну, является наличие у него сознания и действия. Мир, по Рубинштейну, есть «организованная иерархия различных способов существования, точнее − сущих с различным способом существования» [там же, с. 10]. Вместо бессубъектной «объективной действительности» объектом психологического рассмотрения и осознания у Рубинштейна оказывается «мир существования как мир человеческого страдания....» [там же, с. 19].
Таким образом, уже отечественная психология в лице ее наиболее глубоких мыслителей стремилась выйти за рамки натуралистически-материалистической парадигмы теории познания, уже преодоленной в таких областях науки, как релятивистская и квантовая физика, отчасти семиотика и структурная лингвистика.
Наиболее радикально порывает с традицией онтологизации познавательных моделей конструктивистский подход или конструктивистская парадигма в эпистемологии и теории познания, «конструктивность − полагает И.Т. Касавин − едва ли не главное отличие человеческого познания... знаково-символические системы, стихийно возникая как эпифеномен деятельности и общения, приобретают затем относительную самостоятельность, и мыслительная работа с ними не только сопровождает все проявления человеческой активности, но является условием ее возможности. Познание не есть копирование некоторой внешней познаваемой реальности, но внесение смысла в реальность, создание идеальных моделей, позволяющих направлять деятельность и общение и приводить в систему состояния сознания» [6, с. 21].
Жесткий конструктивизм выражает немецкий философ Петер Элен, говоря о том, что «лежит ли в основе познания какая-либо действительность, мы не можем знать; высказывания на эту тему, и в первую очередь все метафизические понятия − субстанция, бытие, сущность, суть наши конструкции и лишены какого-либо реального основания» (Элен, 1999, с. 84). Как лапидарно утверждает американский философ Ричард Роти, «понятия, в которых сформулированы традиционные вопросы западной философии, были полезны прежде, но сегодня они бесполезны» (цит. по Элен, там же).
Истоки конструктивистских идей можно найти у В. Гумбольдта [5, с. 9]: «различные языки − это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его». Эта мысль продолжена авторами гипотезы лингвистической относительности Сэпира Уорфа: «мы расчленяем природу в направлении, подсказанным нашим языком, мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит − в основном языковой системой, хранящейся в нашем сознании... мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем» (Уорф, 1960, с. 174),
Конструктивизм уже завоевал доминирующую позицию в социологии (П. Бергер, Т. Лукман), в этнологии и антропологии (Ф. Барт, Э. Галлер, Э. Хобсбаум, В. Тишков). Предшественниками конструктивизма в социологии можно считать основоположника феноменологической социологии Альфреда Шюца: «даже в повседневной жизни − полагает он − восприятие предмета представляет собой нечто большее, чем просто чувственную презентацию. Это объект мышления, конструкт высокосложной природы, включающий в себя не только определенные формы последовательности его конструирования во времени как объекта отдельного чувственного восприятия, скажем зрения, но и пространственных отношений, чтобы конституировать его как чувственный объект нескольких чувств, скажем зрения и осязания, но также и вклад воображения, завершаемый гипотетическим чувственным представлением.... иными словами, так называемые конкретные факты обыденного восприятия не столь конкретны, как кажутся. Они уже включают в себя абстракции высокосложной природы, и мы должны принять их во внимание во избежание неуместной здесь иллюзии конкретности» (Шюц, 2004, с. 7).
В психологии родоначальником конструктивизма можно считать Л.С. Выготского, заложившего основы культурно-исторической теории. Идея формирования «нового человека», которую разделял Л.В. Выготский в аспекте построения реальности под некий идеал, по сути конструктивистская (утопизм тоже форма конструктивизма). В бурном революционном начале 20-го идеи конструктивизма были широко распространены в архитектуре (Г. Земпер, ле Корбузье, В.Е. Татлин, И.И. Леонидов ), живописи, поэзии (К.Л. Зелинский, И.Л. Сальников, А Н. Чечерин, В. Имбер, отчасти Э. Багрицкий) идея: «мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим....», − звучала рефреном в мировоззрении не только леворадикальных политиков (не говоря уже о жаждущих перемен широких массах), но была лейтмотивом творчества значительной части гуманитариев, для которых отказ от ветхозаветной модели неизменного во времени человека означал возможность творческой эволюции человечества в движении к справедливому обществу. Последовавший за тем переход в идеологии от революционного романтизма и футуризма (которые можно условно назвать леворадикальным «конструктивизмом») к теории отражения и «социалистическому реализму» является косвенным свидетельством отклонением маятника идеологии от революционных к предельно консервативным формам мировоззрения, фиксирующим «единственно правильную точку зрения». Проявлением этого консерватизма в политике стал переход к однопартийной системе, в экономике − практически возврат к крепостному праву в деревне и рабский, принудительный труд в ГУЛАГах, в науке же вылился в требование единомыслия.
В условиях жесткого идеологического давления тоталитарного общества даже само методологическое обсуждение неких иных принципов, кроме официально декларируемых, было просто немыслимым, и гипотетический методологический спор быстро перешел бы (история отечественной науки знает множество тому трагических примеров) в плоскость «быть или не быть» в чисто физическом плане. И наши учителя вынуждены были часто прибегать к охранительной терминологии, дающей индульгенцию на идеологическую чистоту. Так, этнопсихологические исследования А. Р. Лурии (1940) культурно-исторической специфики познавательных процессов, его же идеи функционального органа, не имеющего морфофизиологической привязки и возникающего под решение конкретной задачи, на мой взгляд, в методологическом плане резонансны идее «множественности возможных миров» (Хинтикка, 1980) или моделей «потребного будущего (в терминах Бернштейна, 1966). Близок к конструктивизму и В.В. Давыдов (1972) рассматривающий теоретическое мышление как оперирование идеальными моделями, фиксирующими наиболее существенные свойства, не сводимые к эмпирическому опыту, а раскрывающиеся (конструируемые) только в системных связях и отношениях с такими же абстрактными теоретическими моделями.
На мой взгляд, конструктивизм в психологической науке содержит несколько базисных составляющих, таких как: идея познания − как построения («познавать значит динамически воспроизводить объект, но для того, чтобы воспроизводить, нужно уметь производить. (Ж. Пиаже, 1960); идею модельности в познании как понимания того, что наличные теории не копируют, а моделируют реальность («карта это не есть территория» (см. Гриндер, Бэндлер, 1994), идею плюрализма истинности как понимания правомочности множества конкурирующих моделей, адекватность которых может определять не наличным, а еще «не ставшим» (находящимся в развитии бытием); и собственно идею конструктивизма, заключающуюся в том, что познание не только описывает, но и творит реальность, и теоретические модели по принципу кольцевой причинности участвуют в созидании мира, (познания − как конструирование, внесение в мир нового) [14].
Ну и, наконец, наиболее последовательную конструктивистскую позицию занимает создатель теории личностных конструктов Дж. Келли (1955, 2000).
Его известное положение о том, что «психические процессы канализируются по руслам тех конструктов, в рамках которых антиципируются события», является по духу конструктивистским, так как выводит активность действующего и строящего мир субъекта, исходя из вариантов его картины мира [7]. Забегая вперед, отмечу, что дальнейшее развитие идей Келли в рамках отечественной психосемантики (Петренко, 1983, 1997; Петренко, Митина, 1997; Шмелев, 1983, 2002) неизбежно интегрирует идеи конструктивизма и интуитивизма, ибо построение многомерных семантических пространств как операциональных моделей сознания и фиксация коннотативных значений (смыслов субъекта по поводу анализируемых объектов) дают своеобразную ориентировочную основу для эмпатии, встраивания в сознание, картину мира другого. Само же эмпатийное сопереживание имеет не рационалистически конструктивистскую, а интуитивистскую природу.
Вообще-то стихийный конструктивизм имманентно присущ психотерапии вообще как системе психологических технологий, призванных перестроить «психический мир» пациента, рациональной психотерапии, адептом которой являлся Дж. Келли, и особенно нарративной психотерапии (М. Мэхони, Ней Мейер − см. Соколова, 2002), где рассказ пациента о прошлом и перекомпозиция этого рассказа с иными акцентами на произошедшие события и переживания ведут к перестройке автобиографической памяти (см. Нуркова, 2002), и, как следствие, изменению личности. Методическими средствами изучения исторической психологии в рамках конструктивизма могли бы быть построения семантических пространств на основе тезаурусов исторических текстов. Такого рода исследования вполне реализуемы, хотя и требуют компьютерной обработки огромных массивов исторических материалов. Трактовка же построенных исторических семантических пространств как ментальных карт прошедших эпох неизбежно содержит интерпретационный плюрализм и различные герменевтические версии.
Если для эпистемологической парадигмы «теории отражения» когерентной является общественно-формационная модель истории с «объективными законами развития» и включающая идею «эквифинализма» самого исторического процесса, то конструктивистская модель подразумевает как вариативность возможных сценариев будущего, так и плюрализм истинности в версиях прошлого. Обе вышеупомянутые парадигмы включают некую методологию и систему научных методов опосредованного изучения исторического процесса и менталитета людей, его реализующих. Для формационной модели он прямо детерминирован социальной принадлежностью индивида.
Психосемантический подход к исследованию сознания и личности в психологической науке традиционно относят к когнитивистской парадигме. Так, в четырех из пяти изданных на русском языке американских учебниках по психологии личности теория личностных конструктов отнесена к когнитивистскому подходу, для которого свойственны операционализация теоретических понятий и широкое употребление математического аппарата и формализации в построении ментальных карт. Такая классификация справедлива лишь отчасти. Действительно, психосемантика использует аппарат многомерной статистики (для факторного, кластерного, детерминационного анализа, многомерного шкалирования и структурного моделирования) для построения семантических пространств, выступающих операциональной моделью индивидуального и общественного сознания. И отдельные параметры этих семантических пространств отражают когнитивную организацию сознания индивида [13]. Так, размерность семантического пространства (число независимых факторов) отражает когнитивную сложность личности в данной содержательной области. Семантические склейки дескрипторов языка описания выделяют личностные конструкты как индивидуальные эталоны категоризации присущие субъекту. Мощность выделенных факторов (перцептуальная сила признака), выраженная во вкладе фактора в общую дисперсию, отражает субъективную значимость для индивида данного основания категоризации. И, наконец, координаты коннотативных значений в семантическом пространстве (как проекции образов анализируемых объектов на координатные оси семантического пространства) выступают коррелятами личностного смысла субъекта (термин А.Н. Леонтьева) относительно анализируемого объекта. Казалось бы, семантический аппарат дает достаточно формализованную модель содержания сознания субъекта, и отнесение психосемантики к когнитивистской парадигме вполне правомочно. Но в отличие от объектного описания, присущего естественнонаучной парадигме в психологии, субъективные семантические пространства выступают для интерпретатора не как некий идеальный модельный объект, изоморфный объекту исследования. Если, как подчеркивает герменевтика, естественные науки − это науки о познании, то гуманитарные − о понимании. Применительно к построению субъективных семантических пространств Чарльз Осгуд, один из основателей психосемантического подхода (и автор метода семантического дифференциала), рассматривал семантическое шкалирование как «поддержанную интроспекцию». С нашей точки зрения, система личностных смыслов, представленных в семантическом пространстве облаком координат коннотативных значений, выступает как ориентировочная основа процесса эмпатии, встраивания сознания исследователя в мироощущение другого (или в свое собственное при исследовании самосознания). Т.е. интерпретация построенных семантических пространств как необходимое и важнейшее звено психосемантического анализа необходимо включает эмпатийно-интроспективную составляющую. Интроспекция как непосредственное (прямое знание) собственной психической жизни, многократно и справедливо раскритикованная многочисленными психологическими школами (начиная с бихевиоризма и психоанализа и заканчивая теорией деятельности и когнитивистской психологией) остается, тем не менее, ведущим источником информации о психической жизни субъекта. Ведь подчас «забывается», что тексты испытуемого − основной источник информации для психолога-исследователя и практика, порождаются на основе интроспекции (самоотчета) испытуемого. И здесь, в наших теоретических построениях и рассуждениях мы перекидываем мостик между конструктивизмом и интуитивизмом как взаимосвязанными и необходимыми процессами построения идеальных моделей в познании (отметим, что в математике эта связь вырисовывается с очевидностью − см. Непейвода, 2001).
Возможно, дорогу к состоянию единения душ дает гуманистическая психология, а конкретнее, групповая психотерапия в духе К. Роджерса. Трудно описать тому, у кого нет опыта прохождения ти-групп эти состояния измененного сознания, некоторого нервного возбуждения, в определенный момент охватывающего одновременно всех участников группы и ощущаемого как единое напряженное поле. Это чувство единства группы, включающей всех участников группового процесса и как приятных, так и не приятных тебе людей. Каждая группа уникальна, и рассказ о происходящем в группе даже близкому тебе человеку ощущается как некоторое предательство группы, потому что происходящее надо непосредственно пережить во всех нюансах, а рассказ вне контекста − всегда огрубление, граничащее с опошлением; и наоборот, уход, выпадение из группы даже неприятного тебе человека воспринимается болезненно, как будто в едином поле образовалась дыра, и группа лишилась одного полноценного, имеющего свою правду жизни, голоса.
В отличие от акцентуации ценности и неповторимости бытия отдельной личности в философии экзистенциализма и гуманистической психологии в восточной буддисткой традиции культивируется идея ухода от «индивидуальной биографии», от уникальности личности, при близости к идеи интеграции и соборности свойственной христианской традиции.
В дзен-буддизме возможность актуализации в сознании человека предыдущего исторического опыта связана с идеей иллюзорности бытия отдельной личности (принцип анатта) и идеей общности всего живого как форм воплощения единого духа.
В любом случае, безотносительно к возможным интерпретациям, идея исторической памяти на все события и все деяния человечества и отдельных «человеков» заслуживает внимания (по крайней мере, в психотерапевтическом плане, обеспечивающая если и не личное бессмертие, так, по крайней мере, как всеобъемную и бесконечную память о всем нашем бытие). Аргументами в пользу этой идеи могли бы быть следующие соображения. Индивидуальная человеческая память содержит, по мнению А.Р. Лурия, практически все события, происшедшие с человеком в ходе его жизни. Эксперименты X. Дельгадо по электростимуляции мозга позволили ему утверждать, «что, нейроны сохраняют полную запись прошлых событий, включая всю сенсорную информацию (зрительную, слуховую, проприоцептивную и т.д.), а также эмоциональное звучание событий» (Дельгадо 1971, с. 154). Созвучны этому утверждению и результаты экспериментов Б.М. Величковского по определению объема долговременной памяти визуального материала, и гипнотические опыты В.В. Кучеренко по извлечению из пассивной памяти свидетеля событий прошлого.
Какими средствами творческой эмпатии осуществляется подключение к этим историческим метальным эгрегорам таких писателей, как Александр Пушкин, Томас Манн, Леон Фейхтвангер или Алексей Толстой, мы еще не знаем. Перефразируя слова Тиля Уленшпигеля в романе Ш. Де Костера − пепел прошлого (погасших звезд) стучит в нашем сердце − можем вспомнить, что наша плоть, наше тело включает, например, металлы, которые образуются при вспышках сверхновых звезд (т.е. звезд, частично выгоревших, и под действием гравитации коллапсирующих и сжимающихся в сверхмалые (по галактическим масштабам) объемы, где в силу гигантского давления и сверхвысокой температуры и образуются те самые элементы, которые через миллионы лет эволюции вошли в нашу плоть). Мы (по крайней мере, то вещество, из которого мы состоим) столь древние, что мы не можем однозначно отрицать возможные адаптационные механизмы хранения информации самой этой материей, возникшие за миллиарды лет космической эволюции, или не допустить иных гипотетических механизмов памяти и самосознания вселенной. Можно полагать, что не только (экспериментально не доказанные, но широко используемые в теоретических построениях) коллективные юнговские архетипы присутствуют в нашем подсознании, но и другие формы эволюционной памяти и исторического опыта. Ключ, открывающий доступ к наследственной, «генетической» памяти человечества могут дать формы измененных состояний сознания (Минделл, 2004, Тарт, 2003, Хант, 2004, Кучеренко, Петренко, Россохин, 1998) и, в частности, медитация (Конзе, 1993, Andresen, 2000). И, обратив медитативный взгляд внутрь себя, реализовав призыв древних мыслителей «познай себя» и, осуществив своеобразную «ментальную археологию», мы обретем еще один ключ к познанию истории.
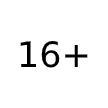

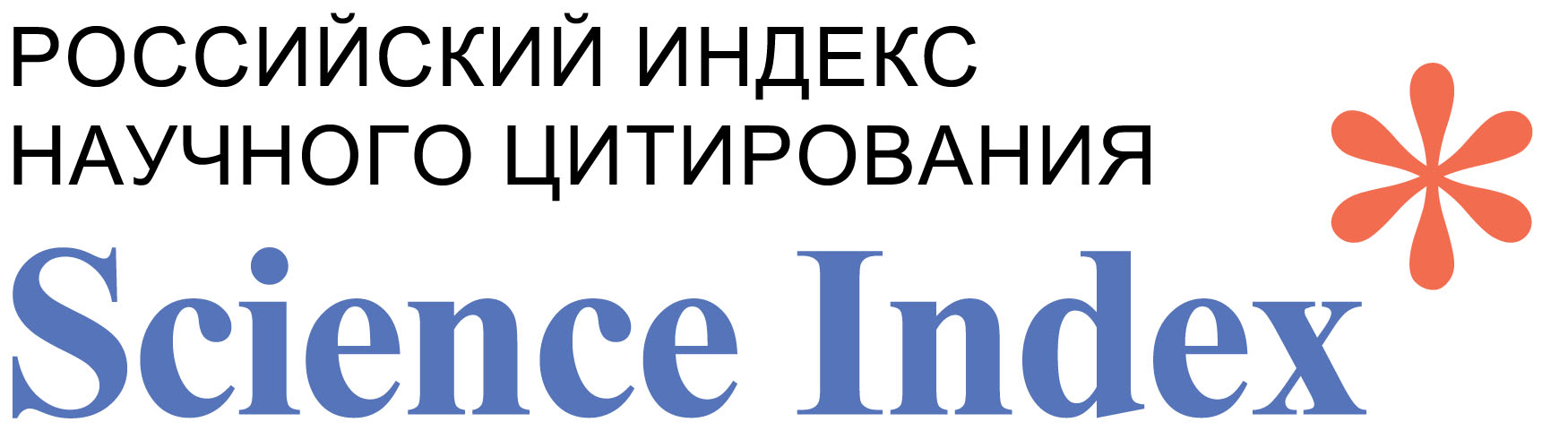




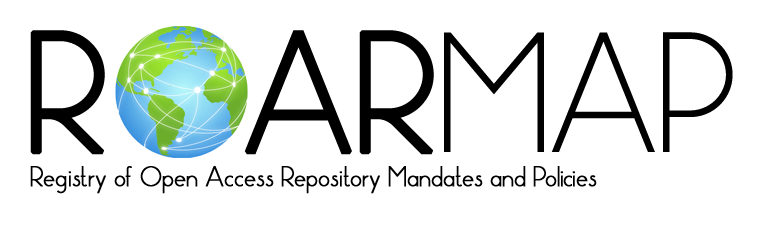

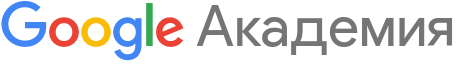


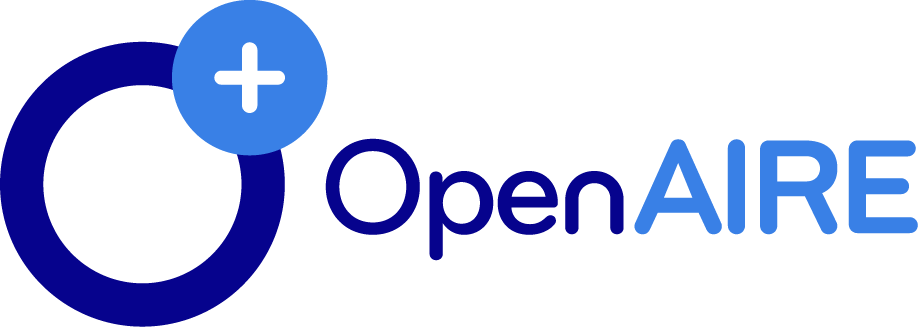




Список литературы